Варианты мира: И. А. Ефремов 2/2
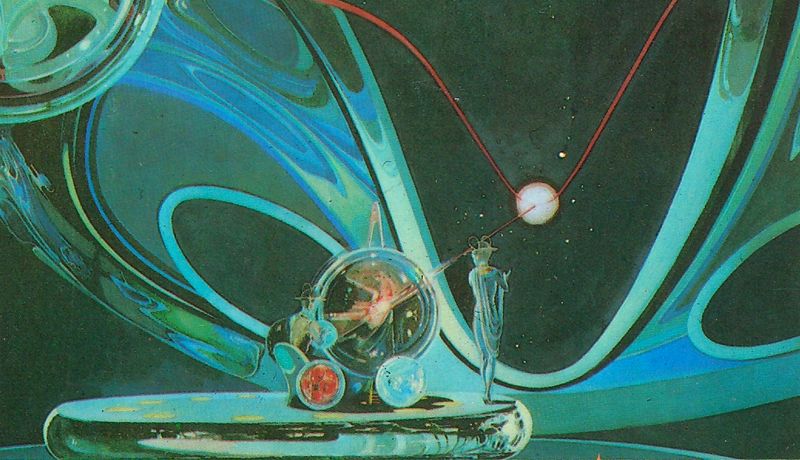
После «Туманности Андромеды» Ефремов опубликовал «Сердце Змеи», повесть о радостной встрече в космосе представителей высоко развитых цивилизаций, построивших у себя коммунистические общества, и стало казаться, что он и дальше будет пририсовывать новые подробности к своей и без того подробной утопии и вести беспощадную полемику с пессимистами-американцами. Но в 1963 г. вышел в свет огромный роман «Лезвие бритвы» и удивил всех – и читателей и критиков. Роман был задуман как экспериментальный. Очень много места в нем занимает научная информация и комментарии к ней. В нём сталкиваются три сюжета – история советского врача и философа Гирина, история индийского художника, проходящего путь высшего познания в Индии гуру, монастырей и божественной архитектуры, наконец, похождения группы молодых итальянцев, отправившихся собирать алмазы на берегу Африки.
Критика встретила роман очень прохладно. И правда, приключения «в хаггардовском вкусе» невыразимо скучны, а научные рассуждения в книге зачастую имеют мало общего с «серьёзной» наукой. Но не это вызвало недовольство. Назвав «Лезвие бритвы» «романом приключений», Ефремов определил свою цель иначе: он показывает «особенное значение познания психологической сущности человека в настоящее время для подготовки научной базы воспитания людей коммунистического общества». О сущности современного человека идёт речь в романе, а это тема, требующая тонкого подхода в советской литературе. Мы же уже знаем, что Гирин, главный герой и рупор писательских взглядов в романе, отличается не слишком ортодоксальной позицией.
В молодости Гирин вылечил женщину, страдавшую полным параличом: она видела, как белобандиты убили её мужа. Гирин инсценирует нападение на дочь этой женщины, и под влиянием шока она выздоравливает. С тех пор Гирин изучает законы, по каким «древние инстинкты, с одной стороны, и общественные предрассудки – с другой, преломляясь в психике, влияют на физиологию». В методе лечения, в формулировке отношений психики и физиологии нам чудится нечто знакомое. Подозрение не медлит подтвердиться. В одной из центральных сцен книги Гирин читает лекцию по эстетике. Из неё явствует, что психическая жизнь человека не исчерпывается его сознательной деятельностью: существует ещё и подсознание, в котором запечатлён огромный опыт доисторического существования человечества и которое во многом управляет поведением человека. В частности, наше чувство человеческой красоты – не что иное, как инстинкт полового отбора, закодированный в генах в то первобытное время, когда главной задачей человека было продление рода.
Но половое влечение, прямо или косвенно определяющее нашу психику, подсознание, составляющее её фундамент, укоренившиеся в ней древние табу и механизмы, – это же запретные, не реабилитированные по сию пору идеи Фрейда. В литературе 20-х годов эти идеи были разменной монетой, но Ефремов был одним из первых, если не первым писателем, обратившимся к ним открыто в послевоенное время. Должен сказать, что мне неизвестны другие примеры такого пристального внимания к подсознательному в современной советской литературе.
Бдительные слушатели лекции сразу же ловят Гирина на сходстве с реакционнейшим учением. Он оправдывается с помощью диалектической софистики: у Фрейда подсознательные и сознательные процессы якобы оторваны друг от друга, тогда как в его, Гирина, теории составляют единство двух параллельных и взаимодействующих между собой потоков. Со своей стороны, Ефремов прилежно отмежёвывается от Фрейда, осуждая в своих статьях фрейдистское вредное самокопательство: Фрейд доказывал, что в основе каждого душевного движения лежит примитивный инстинкт, путь же советской литературы – показать, как из примитивных инстинктов вырастает «великое здание любви, самоотвержения, долга и чести». В одном из интервью Ефремов уверяет подозрительных читателей, что уже в примитивную эпоху сложились и вошли в подсознание психические основы альтруизма, дружбы и проч. За это объяснение радостно ухватились критики-препараторы. Занятые тем, чтобы мумия Ефремова хорошо смотрелась в музее восковых фигур соцреализма, они не видят в ефремовской теории конфликта сознания с подсознанием, а просто разум, дополненный «безотчётным порывом» к прекрасному.
Однако, в книгах Ефремова сказано не совсем то, точнее, совсем не то, что в его интервью и газетных заявлениях. Начнём с того, что Ефремов вполне последовательно перенимает формальную схему и главные категории психоаналитической теории (для демонстрации развития прекрасного здания из примитивных основ нужно знать эти основы). В «Часе Быка», размышляя о связи психики с физиологией, писатель пользуется понятием «сверхсознание», дополняющим «сознание» и «подсознание»: перед нами точная копия взаимоотношений «ид», «эго» и «суперэго». Для Ефремова очевидно, что Фрейд ошибался, отказываясь учитывать действие социальных инстинктов, что не совсем верно, но в чём Фрейда упрекали неофрейдисты, марксофрейдисты и проч. Кроме того, Ефремов усиленно подчёркивает роль наследственного опыта, отдалённо напоминающего «коллективное сознание» у Юнга. Но уходя от классического психоанализа, Ефремов не пристаёт к марксистскому берегу. Его «социальная эксцентризация», – пользуясь модным выражением, – имеет мало общего с толкованиями тех западных марксистов, которые признают психоанализ, и ещё меньше – с трактовкой общественного сознания в официальной доктрине. «Дикая жизнь человека, – тут Гирин поднял ладонь высоко над полом, – это вот, а цивилизованная вот, – он сблизил большой и указательный пальцы так, что между ними осталось около миллиметра». «Миллиметровая» история развитых обществ, т. е. история разделения труда, т. е. история производственных отношений, т. е. история борьбы классов – оставила весьма неглубокий след в психике человека. Подавляющее значение имеет неизменный, независящий от конкретной исторической обстановки (ибо закодированный сотни тысяч лет назад) первобытный опыт. И в подсознании кроется не только прекрасное. В «Лезвии бритвы» и «Часе Быка» часто говорится о «тёмных силах» подсознания, в «Таис Афинской» – о «тьме первобытных чувств», о «хаосе» и таинственных, но ужасных «вихрях». И эти тёмные силы постоянно прорываются наружу, – даже в обществе XXX века, основательно вычищенном с помощью евгеники и неусыпного генетического надзора, есть люди, поддающиеся их влиянию. Цель действий общественного человека в том и состоит, чтобы удержать равновесие между разумным поведением и спонтанными положительными реакциями, не попадая во власть тёмных подсознательных сил – отсюда и символический образ «лезвия бритвы». Такая модификация фрейдизма как нельзя лучше входит в рамки ефремовской метафизики. Складывается даже впечатление, что психоаналитическая схема нужна Ефремову для того, чтобы поставить на «научные ноги» своё убеждение о борьбе Зла с Добром в человеке.
Именно так поняли «Лезвие бритвы» его первые критики, ещё не уведомлённые о том, что о Ефремове нельзя говорить ничего, кроме хорошего. Даже если они прикрывают глаза на совпадения ефремовской психофизиологии с буржуазными учениями, им мешает сама суть дела:
«Ефремов всё время предупреждает: оно (лезвие бритвы. – Л. Г.) опасно, зыбко и в любую минуту может сдвинуть нас в пропасть подсознания. Предупреждения эти звучат угрожающе. Они превращают нас в балансеров на тонком канате, ставят под власть какой-то черты, переступив которую мы перестаём быть людьми. Мы не хотим этого». Критикам не нужны никакие черты. Ходить по лезвию бритвы трудно и неудобно. Да и зачем, если известно, что существует новый, коммунистический тип человека, ничем не ограниченный, «цельный, безо всяких низменных начал».
Ещё одно сильно смущает самых доброжелательных критиков Ефремова – до такой степени, что они, как по уговору замалчивают или искажают бросающуюся в глаза особенность его творчества. Уже герой «На краю Ойкумены» во время своих скитаний связывается с тремя разными женщинами, и автор не наказывает его, как положено, а наоборот, глубоко симпатизирует ему. В утопическом обществе «Туманности Андромеды» упразднён институт семьи – свободная любовь управляет взаимоотношениями всех героев. Только Ефремов осмелился поднять руку на священную первичную ячейку общества, и славословя «Туманность», все рецензенты уговаривают писателя внять цитатам из Энгельса и отказаться от досадного заблуждения. Однако, уговоры не действуют. Ефремов осуждает советскую литературу за ханжество, в программной статье, написанной в 1962 году, яростно высмеивает отрицательных героев, обуянных дикой страстью, и положительных, у которых «нормальное влечение к женщине настолько задавлено волей авторов, что они, глядя на героиню, не смеют опустить глаза ниже её подбородка или поднять выше колен». Сам Ефремов в своих книгах говорит о силе полового созревания как о «величайшей кондиционирующей силе организма» (называя её индийским термином Кундалини); он утверждает, что богатство человеческой психики зависит от «постоянной эротической остроты чувства», ибо такова присущая человеку «биохимия» (к чему говорить о фрейдизме?). Писатель перенаселяет страницы своих книг образами прекрасных, то и дело обнажающихся женщин, заставляет персонажей вести длинные разговоры о необходимости и счастье свободной любви – и поступать сообразно, храня, впрочем, чистоту и целомудренность, – главной героиней своего последнего романа он выбирает афинскую гетеру, любовницу Александра Македонского.
Во всей послевоенной печатающейся литературе не найти другого писателя, у которого столько места занимала бы эротика, а такой последовательной и страстной проповеди свободной любви не было, пожалуй, со времён Александры Коллонтай.
Эротике, выведенной из подземелья примитивных чувств, приберегается ключевая роль в ефремовской концепции.
Ефремов преклоняется перед женщиной. В «Таис Афинской», где это преклонение превращается в боготворение, женщины показаны лучше, сильнее, мудрее мужчин. После воцарения мужских богов, говорит Ефремов, жизнь на Земле стала хуже. «Непрерывные войны, резня между самыми близкими народами – результат восшествия мужчины на престолы богов и царей».
Разлад между мужским и женским началом пошёл с тех пор, когда люди стали больше верить созданным ими орудиям и машинам, чем самим себе, оторвались от природы, ослабили свои внутренние силы. Женщина больше сохранила себя, в ней разум не подавляет памяти и чувств, она связана с миром, потому-то в ней воплощён творческий дух, она может вдохновлять поэтов и философов. Созвучное утопическим мечтаниям Фурье, Белинского и Чернышевского, отношение к женщине у Ефремова напоминает и религиозный культ женского начала – Софии в философии Вл. Соловьёва.
Женщина – самое совершенное создание природы – олицетворяет Красоту. Красота же для Ефремова, поклонника Эллады, – высшая ценность в жизни. Поэтому любовь с женщиной – нечто гораздо более важное и глубокое, чем физиологический акт или даже эмоциональная связь, это – приобщение к Красоте; а поскольку Красота – одна из ипостасей Светлого мирового начала, постольку и любовь есть путь к абсолютному познанию.
Почему я столько об этом пишу? Потому что ефремовские дифирамбы Эросу – необычное явление на фоне пуританской до мозга костей литературы соцреализма. И ещё потому, что эротическая тема очень тесно связывается в творчестве Ефремова с очень важным его аспектом: с постоянным вниманием к древнеиндийской культурной традиции.
В «Лезвии бритвы» есть две сцены – два больших разговора о религии: первый о христианстве, полный негодования, второй – апологетический – об индуизме. Гирин говорит о христианстве, рассматривая музейный экземпляр знаменитого «Маллеус малефикарум». Свою речь он начинает словами: «Слишком велика моя ненависть к этому позору человечества, и я никак не могу подняться на высоту спокойного и мудрого исследования прошедших времен». Говоря же об индуизме, Гирин подчёркивает: «Я никого не вправе ни осуждать, ни порицать. Я только искатель научной истины, знающий, что истина зависит от обстоятельств места и времени».
Откуда такая разница? Почему Гирин неспособен спокойно отнестись к средневековью и христианству, которые тоже могли бы претендовать на свою, объяснимую обстоятельствами места и времени, истину? Ответ мы получаем неожиданный, но вполне совместимый с тем, что мы уже знаем о взглядах Ефремова: Гирин вспоминает об Элладе, преклонявшейся перед красотой женщины, Азию с её культом женщины-матери... и смрадные костры инквизиции в Европе. Гирин ненавидит христианство наподобие рыцаря, защищающего честь Прекрасной Дамы, невинно осуждённой и заточенной в застенках инквизиции. Это благородно, но не вполне научно. И юдаизм отталкивает Ефремова потому, что он изобрёл понятие «греха» и отвёл женщине «нечистую» роль. Зато уже в «Туманности Андромеды» появляется прекрасная и страстная индийская танцовщица, а звездолёту, отправляющемуся на завоевание галактик, присвоено многозначительное имя «Тантра».
Дело в том, что Ефремову необходима религия – так или иначе понимаемая духовная традиция, с корнями, запущенными в далёкое прошлое, способная дать опору человеку в борьбе с его примитивным подсознанием. Такую опору он находит в Элладе. Но его не удовлетворяет возврат к естеству, он ищет более глубокого, более метафизического подхода и призывает на помощь Индию. Индию, где эротике придаётся сокровенный, мистический смысл, где тысячелетиями испытываются пути к познанию глубин человеческой души и скрытых сил человеческого тела.
Именно от индийской философии идёт основное в ефремовской антропологии – мысль о несовершенстве природного человека, о возможности абсолютного познания и раскрытия себя, о «лезвии бритвы» и, главное, о самосовершенствовании как единственном способе изменения человека.
И Гирин, и индусский художник, герой параллельного сюжета «Лезвия бритвы», преследуют одну цель. Первый идёт к совершенству, пользуясь научными методами, рациональным анализом и синтезом, второй – следуя древним тантрическим ритуалам. Казалось бы, с точки зрения материалиста – несовместимые пути. Но Гирин думает иначе, и в финале книги индусские мудрецы с почётом встречают его и признают ему титул брахмана.
В разговоре с индусами Гирин стоит на позиции современного учёного. Он очищает индусскую философию от «наносных» религиозных элементов, рационализирует её, вылавливая то, что поддаётся объяснению в научных терминах. Он отбрасывает, например, понятие сверхчувственной связи с миром, сравнивая такое состояние с ощущениями человека, погруженного в гипноз современными лекарствами, вызывающими понижение уровня углекислого газа в организме. Как все объяснения Ефремова, это ничего не объясняет; писатель это чувствует и предоставляет критическое слово Гирину для того, чтобы выслушать ответ мудреца-гуру.
Оказывается, существуют две дороги познания Запада и Востока, европейская наука, изучающая физический мир, и индийское откровение, доступное углублённому в себя йогу. Обе дороги ведут к тому же, обе они несовершенны: первая отрывается от природы, от интуитивного понимания, вторая – удел лишь самых сильных, чужда «среднему» человеку.
И Гирин предлагает единственное правильное решение: нужно идти по лезвию бритвы между двумя дорогами, между западной и восточной мудростью. Гирин признаёт необъяснимость и самостоятельность высших разделов йоги, «путей владычества над нервно-психическими силами и силами экстаза, прозрения и соединения с океаном мировой души». Советский учёный-материалист заключает союз с мистическим знанием йогов, надеясь понять «душу мира». Конец книги символизирует этот союз: индус дарит Гирину картину с изображением всадников на мосту, протягивающих друг другу руки. Эти всадники – утренняя и вечерняя зори, нечто несоединимое в жизни, но сочетающееся в мысли, в высшей реальности.
Роман Ефремова впервые после долгих лет в такой форме поставил вопрос об отношениях между Востоком и Западом. В сущности, это единственный в новое время советский мистический роман, книга о великом прозрении. В неофициальной литературе есть, разумеется, христианские мистики (тема веры просачивается даже в печатающуюся литературу), с середины 60-х годов появляется самиздатская «мистическая» проза, одно время держалась настоящая мода на тантризм, дзен и т. п. Но насколько я знаю, никто из писателей не подошёл к теме восточного мистицизма так серьёзно, как Ефремов, и никто не принял её так близко к сердцу. Можно полагать, что на страстное увлечение индийской традицией у Ефремова в какой-то мере повлиял Николай Рерих, с которым по некоторым данным Ефремов состоял в переписке. Крупный художник и глубокий философ-мистик, выхолощенный официальной критикой чуть ли не в реалиста, Рерих несколько раз с восторженным преклонением упоминается в «Лезвии бритвы». Эта преемственность лишний раз показывает: поиски пути к высшему познанию замирали, но, несмотря ни на что, никогда не умерли в России.
Идея прозрения прочно входит в философию Ефремова. В «Часе Быка», где писатель показывает людей будущего, соединивших в одно западную и восточную мудрость, сказано, что возможно такое познание мира, для которого нужны «три шага: отрешение, сосредоточение и явление познания». Это формула соединения внутренних сил человека с «мировой душой» (формулу эту осуществил на деле герой «Испытания истиной» Савченко, повести, которую тоже можно по праву считать «мистической»). Ефремов не называет этого мистицизмом, но на то он и материалист. Он даже надеется когда-нибудь найти рациональное объяснение такому познанию. Но вот что важно: человек в его понимании становится самостоятельной ценностью, индивидом, развитие которого обеспечивается правильным общественным устройством, но зависит почти исключительно от него самого, от силы его самоуглубления.
Заключительные сцены «Лезвия бритвы» несут ещё один смысл, тесно связанный с центральной идеей книги.
Писатель всячески подчёркивает, что мудрейший из мудрейших Гирин – русский. Ни один из европейских друзей многоопытных гуру не удостаивался такого внимания, как никому не известный пришелец из России. Гирин представляет собой всё лучшее в русском народе. Профессор-индус, порицая западную цивилизацию, говорит: «Я не знаю России, но думаю, что вы, стоя между Западом и Востоком, взявшись за переустройство жизни по-новому, вы – другие». В этих словах интересно и то, что, не зная России, профессор убеждён в её превосходстве над Западом, и то, что это превосходство объясняется положением страны на границе двух разных культур. Честь синтеза должна принадлежать не ученнейшим брахманам, а русскому философу. Первой по лезвию бритвы пройдёт не какая-нибудь другая страна, а Россия (Ефремов ни разу не пишет: «Советский Союз», а всегда «Советская Россия» или просто «Россия»).
Как тут не узнать столетней традиции русской философской мысли! Экс Ориенте люкс – основа «русской идеи». Начиная с Чаадаева в его «Апологии сумасшедшего», эта идея появлялась почти у всех мыслителей XIX века, она просочилась в XX век вместе со скифами и евразийцами, она стояла у фундамента ленинских надежд на мировую революцию и сталинской теории социализма в одной стране. В советское время она оторвалась от стремления к синтезу культур и мысли. Ефремов возвращает идее русского мессианизма её первоначальную форму. Тут он тоже был одним из первых, и он оказался более открытым и разносторонним, чем большинство «новых славянофилов» 60-х годов.
Если «Туманность Андромеды» показывала счастливое общество, а «Лезвие бритвы» – пути к формированию человека, способного построить такое общество, то в «Часе Быка» говорится прежде всего о том, что произойдёт, если человечество пойдёт в ложном направлении.
«Час Быка» – роман, построенный по образцу классической антиутопии (в нем легко обнаружить влияние отдельных мест из книги Орвелла), с одним нововведением: антиутопическое общество на далёкой планете Торманс наблюдается глазами землян, жителей коммунистической Земли. Как в «На краю Ойкумены» здесь сталкиваются два мира, один из которых олицетворяет злые, а другой добрые силы в человеке, истории, космосе.
Следуя правилу, принятому в этой книге, не буду заниматься социально-политическим разбором картины тормансианского общества (нужно ли говорить, что в ней ясно проступают многие черты советского режима?); останемся при нашей теме – философии Ефремова.
«Час Быка», книга, которой нельзя правильно понять, не зная «Лезвия бритвы», как бы резюмирует всё, о чём начинал говорить Ефремов раньше, даёт чёткие формулировки его взглядов.
Философский стержень романа состоит в раскрытии перед читателем законов развития жизни – той самой жизни, которая противостоит космической энтропии.
Жизнь – светлое начало во вселенной. Но в ней самой скрывается зло: всё живое обречено на гибель. Главный принцип всякой эволюции – принцип инфернальности. Живая материя усложняется в адских муках. Эволюция жизни на Земле – «страшный путь горя и смерти». Слепая природа, направляя своё развитие к усовершенствованным формам, всё более независимым от окружающей среды, поступает как игрок в кости: добивается результата несметным количеством бросков – а за каждым из них стоят миллионы погибших жизней.
Человеческая жизнь – то же инферно, только двойное: для тела и души. Чем совершеннее чувства, разум – тем больше страдания отпущено понимающему неизбежность смерти человеку.
Крайняя тенденция принципа инфернальности – Стрела Аримана, тенденция направленности зла в мире, действующая и в природе, и в человеческом обществе. Всеобщий закон усреднения, отбрасывая низкие и высокие структуры, благоприятствует всё большему распространению вредоносных форм в природе за счёт полезного и прекрасного. Когда замыкается круг инферно – слишком совершенное приспособление к условиям данной экологической ниши или самоизоляция инфернального общества, – тогда появляется Стрела Аримана, отбрасывая развитие на низшую ступень, на низший круг ада.
Все построение не просто метафизично. Это настоящая теодицея, постановка и решение вопроса о существовании Зла. Она стоит на новом дополнении к ефремовской философии: на допущении элемента иррациональности в мироздании, порождённого столкновением двух противоположно направленных законов – закона стремления к высшим структурам, эволюции, и закона усреднения структур. Такая иррациональность – не случай, как его понимает современная наука, игнорирующая оценочный подход, а злотворный хаос с его непременным атрибутом – смертью. Природа иррациональна в своей великой игре в кости, круговорот Зла в принципе может продолжаться вечно. В символе вечности – змее, вцепившейся в свой хвост – заключается «величайшая загадка жизни и её бессмысленность».
Бессмысленность жизни в том, что существует смерть. Ефремов испытывает ужас перед смертью.
В «Туманности Андромеды» есть такой эпизод. Учёные, задумавшие опасный опыт с нуль-пространством, ищут аргументы в пользу его проведения. Один из них, выражает мнение большинства: победа над пространством, разделяющим разумные миры, поможет им слиться в одну семью и человечество сделает ещё один шаг на пути к овладению природой. Это рассуждение целиком направлено в будущее. О другом думает Мвен Мае, один из главных героев книги: он вспоминает раскопки, кладбища, миллионы безвестных могил, видит миллиарды прошедших человеческих жизней, это они требуют победить время, побеждая пространство, раскрыть «великую загадку времени».
Это очень важные мысли. Речь здесь идёт не о людях, погибших в борьбе за лучшее будущее, не о тех, кто шёл на подвиг ради прогресса. Мвен Мае потрясён смертью, поражением в схватке со временем всех безвестных (и известных) живших когда-либо на Земле. Он связан с ними одной нитью, и его решение провести опыт, вопреки всеобщему мнению, вызвано чувством долга перед ними. А в «Лезвии бритвы» Гирин ощущает тяжесть прошлого ещё больше, он считает себя ответственным за «все страдания живой плоти в её историческом пути от амёбы до человека».
Марксистские философы часто вспоминают прошлое, рисуя ужасы рабовладельческих обществ, «тёмные века», преступления капитализма. Но все их обвинения сводятся в конечном счёте к двум формулам. Или «Было плохо, стало плохо, но из этого зла родится прекрасное будущее» (на Западе), или «Было плохо, стало хорошо, а будет ещё лучше» (в социалистических странах). Обе эти формулы определяют сравнительные качества исторических формаций. Марксизм не знает зла вне общественных отношений, в нём нет благоговения перед прошлым, нет памяти о страданиях амёбы, нет страха перед ходом времени. Вектор мысли и действия, в особенности этической мысли и этического действия направлен всегда вперёд, в будущее.
Отношение к прошлому сближает Ефремова не с марксизмом, а с русскими мыслителями XIX века.
Восставший против Логоса Истории Белинский писал: «если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лестницы развития, – я и там попросил бы вас отдать мне отчёт во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II и пр.; иначе, я с верхней ступени бросаюсь вниз головой». У Достоевского Иван Карамазов возвращал Богу свой билет на вход в мировую гармонию – из-за слезинки одного замученного ребёнка. Это неотъемлемое от русской традиции чувство связи с прошлым, эта ненависть к страданиям и смерти нашли своё законченное выражение в системе Николая Фёдорова, для которого отвратительны были все классические, социалистические и другие утопии, ибо все они рисуют «общество, пирующее на могилах отцов».
Фёдоров, величайший научный фантаст среди философов, создал свой «проект» для того, чтобы избежать такой «шигалевщины во времени» (по выражению Иванова-Разумника). Её старается избежать в своих утопических построениях Ефремов – и во многом повторяет идеи Фёдорова.
Случайно ли это? Если взглянуть на высказывания Ефремова с этой точки зрения, они неожиданно складываются в стройное целое.
Вспомним главные мысли Ефремова о мироздании. Косной космической материи противостоит жизнь. Сила жизни в том, что она совершенствуется и в высшей точке своего развития родит жизнь, мыслящее существо. Ефремов потратил очень много труда в своих книгах и статьях, доказывая, что форма человека это форма идеальная, а значит, закономерная для разумного существа, отточенная в борьбе с силами космоса, враждебными жизни (отмечу, что точно так же рассуждал А. Богданов в «Красной звезде»). Все мыслящие существа должны походить на человека, или иначе: человек рождается везде, где возникает жизнь, сопротивляющаяся натиску энтропии. Человек – это максимум жизни, максимум вселенской энергии, это антиэнтропия мира.
Борьба жизни с мёртвой материей, борьба с принципом инфернальности в эволюции жизни и в эволюции человеческого общества может длиться вечно. Ефремов видит только один выход из неё. Зло и страдания не прекратятся до тех пор, пока «мудрость людей, объединившихся в титанических усилиях, не оборвёт этой игры слепых стихийных сил, продолжающейся уже миллиарды лет в гигантском общем инферно планеты». «Великое кольцо» призвано «нести во все концы вселенной могучую силу разума, побеждая косную, неживую материю». А в «Сердце Змеи» сказано: «Человек – это единственная сила в космосе, могущая действовать разумно и, преодолевая самые чудовищные препятствия, идти к целесообразному и всестороннему переустройству мира».
В системе Н. Фёдорова Бог сотворил вселенную, но вселенная мертва, хаотична, бездушна. Только человек своим разумом и своим усилием способен вдохнуть в неё смысл: «Бог воспитывает человека собственным его опытом. Он – Царь, который делает всё не только лишь для человека, но и через человека; потому то и нет в природе целесообразности, что её должен внести сам человек, и в этом заключается высшая целесообразность».
Фёдоров учил, что стремиться следует не к загробному раю, а к построению счастливой жизни для всех на Земле. Для этого все люди должны осознать себя братьями, объединиться и действовать сообща, подчиняясь этическому императиву долга перед отцами, перед ушедшими поколениями. Объединённое человечество силой науки сможет победить мировое зло смерть, упорядочить вселенную. Необходимый для этого этап – заселение «небесных пространств».
Много раз Ефремов повторяет те же мысли об объединении человечества, об этическом смысле завоевания космоса, о необходимости победы над временем и пространством. Его философию с полным правом можно назвать «Философией общего дела». Для Ефремова так же, как и для Фёдорова, нравственный человек не нуждается в принуждении (и единственный из всех советских фантастов он создаёт в своей утопии Остров Забвения); для него, как и для Фёдорова, природа – великая ценность, без которой человек перестаёт быть самим собой; всех героев ефремовской утопии отличает аскетизм, презрение к материальным благам (на Земле был даже Век Упрощения, когда люди учились обходиться самым малым в жизни, сохраняя силы для накопления духовного богатства), – тому же учил и Фёдоров, всю жизнь проживший скромным библиотекарем; Ефремов восхищённо почитает Индию, которую Фёдоров называл «учителем Запада и Севера». Даже название первой космической повести Ефремова, для которого звёздными кораблями были обитаемые планеты, приводит на мысль слова Фёдорова о том, что «человечество должно быть не праздным пассажиром, а прислугою, экипажем нашего земного корабля» и что ход этого корабля будет управляться сознанием и волей объединённого человечества!
Отметим в скобках, что и на Западе высказываются подобные соображения. Известнейший архитектор, изобретатель геодезического купола Р. Бакминстер Фуллер проповедует свою идею звездолёта «Земля». И он же, одновременно с Норбертом Винером и независимо от него, в тридцатые годы обосновал теорию о человеке как антиэнтропии вселенной. Однако, описание действия звездолёта «Земля» у Фуллера вызывает в памяти строки из «Пачки ордеров» Гастева и мало похоже на мечты Ефремова. У западного мыслителя нет и следа той метафизики смерти и этики долга перед страдавшими и погибшими, которые стоят в центре мироощущения Ефремова. Это две разные традиции – интеллектуальная и утилитаристская, с одной стороны, эмоциональная и нравственная – с другой.
Более близкие аналогии идеям Ефремова можно отметить в системе Тейара де Шардена, также палеонтолога. Тейар многое в своей философии создал под влиянием Вернадского, который читал цикл лекций в Париже в 1922-1923 году. Понятие «ноосферы», введённое Тейаром и Ле Руа, Вернадский принял в своих работах и развил вокруг него учение, изложенное в последней прижизненной публикации «Несколько слов о ноосфере» (1944). Ефремов несколько раз ссылается на Вернадского, явно считая его своим научным мэтром, и пользуется термином «ноосфера». С другой стороны, Тейар вполне мог повлиять на Ефремова через свои научные труды (книга Тейара «Феномен человека» в сокращённом виде была опубликована в СССР).
В книгах Ефремова нет упоминаний о Фёдорове. Трудно догадаться, не зная личного архива писателя, читал ли он Фёдорова или же фёдоровские идеи пришли к нему обходным путём, из работ Вернадского и Циолковского. Есть ещё один возможный источник: фёдоровское учение нашло очень своеобразное преломление в творчестве одного из интереснейших мыслителей начала XXвека, погибшего в лагере и до сих пор запретного о. Павла Флоренского, представлявшего себе вселенную как арену борьбы энтропии с эктропией, общечеловеческим разумом. Флоренский, кстати, очень интересовался разными мистическими учениями. Наконец, нельзя в этой связи не упомянуть и Замятина, для которого так же, как и для Ефремова, в мире вечно борются силы энтропии и энергии, понимаемые одновременно и как физические явления, и как универсально-онтологические категории, и как категории, определяющие развитие общества и человека.
В любом случае сомнений быть не может. Супраморализм Фёдорова, определяюще повлиявший на весь пионерский период советской НФ, отразился в мировоззрении писателя, возродившего этот жанр после долгого упадка. И Ефремов, со всеми своими заимствованиями из эллинской древности и индусской культуры, целиком принадлежит к традиции русской мысли.
По мере развития своих концепций Ефремов все дальше и дальше уходит от марксизма. Метафизик и дуалист по складу мышления, он рисует манихейскую картину мироздания, наполненную символическими значениями и ничуть не похожую на космологию по диамату.
Поначалу типичный научный фидеист, он начинает сомневаться в науке. Он говорит вдруг, что «наука даже в собственном развитии необъективна, непостоянна и не настолько точна, чтобы взять на себя всестороннее моделирование общества». Речь здесь идёт, по-видимому, лишь о естественных науках, но замечание симптоматично. Ефремов отдаляется от рационалистического логоцентризма, неотделимого от понимания научности в марксизме. Он допускает действие иррационального в космосе. Признав роль подсознания и эроса в человеческом поведении и открыто противопоставив интеллект чувствам, он в то же время порывает с социоцентризмом. Неизменное примитивное подсознание, личностные функции эроса и эмоций – в этой схеме остаётся мало места для общественных отношений. А идея прозрения просто обходит все помехи между личностью и мирозданием.
Но самый сильный удар Ефремов наносит по ортодоксальному пониманию человеческой истории.
Для учёных-марксистов в истории главное – возникновение и развитие производительных сил, эволюция производственных отношений и борьба классов, т. е. история равна истории борьбы за распределение материального базиса в обществе. Ефремовские историки будущего занимаются «главным – историей духовных ценностей, процессом перестройки сознания и структурой ноосферы». Критика начал экономического и исторического материализма бьёт по определённой цели:
«Больше двух тысяч лет назад некоторые нации на Земле верили, что политические программы, будучи применены в экономике тоталитарной властью, могут изменить ход истории без предварительной подготовки психологии людей».
Ефремов требует изменить основное положение марксистской теории: «Время идёт, и качество человека как интегральной единицы общества становится настолько важным для коммунистического завтра, что уже теперь следует считать воспитание, образованность, психологическую подготовку людей не чем-то надстроечным, как раньше, а базисным элементом производительных сил».
По своему обыкновению Ефремов выражается крайне неточно: время здесь ни при чём. Сознание всегда было базисом общественной жизни, об этом учил у Ефремова уже античный философ из «Таис Афинской».
В 70-е годы в официальную повестку дня был включён вопрос о настоятельной необходимости превратить граждан эпохи «развитого социализма» в живые воплощения идеала, описанного кодексом строителя коммунизма. Ровно двадцать лет прошло после публикации «Лезвия бритвы» и вот, в июне 1983 года, тов. Черненко буквально повторяет ефремовский постулат: «Революционное преобразование невозможно без изменения самого человека. И наша партия исходит из того, что формирование нового человека – не только важнейшая цель, но и непременное условие коммунистического строительства». Не будем, однако, удивляться: о «Новом человеке» говорили и Ленин, и пролеткультовцы, и Сталин, и Хрущёв. А в наши дни, когда, благодаря чудесам НТР и трудовому подвигу народа, база социализма, наконец, реально построена, надо надеяться, что новый человек в скором времени реально сформируется, с его помощью будет построен коммунизм, и на этой новой базе сформируется житель коммунизма, ещё более новый человек, настолько же более совершенный, чем «строитель коммунизма», насколько последний совершеннее жителя «реального социализма». Короче говоря, суть доктрины ни в чем не меняется.
Ефремов же пытался пересмотреть именно её суть: у него сознание не просто включается в базис, но доминирует все остальное: «пресловутое неравенство распределения материальных вещей не последняя беда, если только правители не стараются сохранить своё положение через духовную нищету народа». Яснее сказать нельзя: неравенство материальное, лежащее в основе разделения на классы, менее важно, чем духовная бедность.
Ефремов предлагает собственную концепцию исторического развития. Есть вся история человеческого общества до воцарения коммунизма: это инферно, развитие в нём условно и обратимо. Но есть и медленный подъем из инферно. Фантазия человека рождает искусство, которое преодолевает инферно, строя «первую ступень подъёма. За ней последовала вторая ступень – совершенствование самого человека, и третья – преображение жизни общества. Так создавались три первые великие ступени восхождения, и всем им основой послужила фантазия».
Фантазия, искусство, самоуглубление, самосовершенствование – сознание, – вот сила, движущая историю. Общество преображается лишь в последнюю очередь. О производительных силах Ефремов не считает нужным упоминать.
Так Ефремов окончательно расходится с марксизмом, планомерно разрушает все его теоретические аксиомы, ставит на его место свою собственную философию.
Ефремов был невнимательно прочитан и плохо понят. Успех «Туманности Андромеды» помешал разглядеть в нём что-либо другое, кроме энциклопедической выдумки, динамического оптимизма, крайнего антропоцентризма и геоцентризма. Возникло клише, принятое и официальными критиками, и представителями «новой волны», и западными исследователями: Ефремов фантаст-соцреалист, противоположность польского писателя С. Лема и братьев Стругацких. Это сопоставление не лишено смысла, но именно как сопоставление, а не противопоставление. Система же оценки здесь просто ложна. Лем поразил воображение советских фантастов – оставаясь социалистическим писателем, он касался тем, о которых им и не снилось (но он жил в Польше, а не в СССР – разница фундаментальная). Возбуждённая примером, «новая волна» бросилась на поиски новых тем и новых приёмов. Ефремов продолжал развивать свои мысли. Его стали упрекать в традиционализме, в отсутствии глубины, в том, что, блуждая в космосе, его герои нигде не встречают «Неожиданного, Иного». Ефремов очутился где-то на полпути между «ближними фантастами» и «новаторами». И не без согласия последних им полностью завладели стражи идеологии.
Редко рекуперация удавалась так, как в случае с Ефремовым. Его не переставали хвалить, избегая анализировать его книги, пропуская самое важное. И хвалили только за прошлое – за «Туманность Андромеды» и «Сердце Змеи». О «Лезвии бритвы» было мало рецензий и ни одного серьёзного разбора. О «Часе Быка» говорилось ещё меньше. Е. Брандис и В. Дмитревский – биографы и постоянные комментаторы Ефремова – успели написать в начале 1972 г. статью, бегло касаясь сюжета «Часа Быка» и теории инфернальности. Но в некрологе, опубликованном от имени ССП и традиционно перечисляющем произведения умершего автора, «Час Быка» вообще не упоминается. Линия была указана. В очерке, посвящённом жизни и творчеству писателя, написанном теми же Брандисом и Дмитревским для первого тома его избранных произведений, о «Часе Быка» уже нет ни слова. С тех пор роман как будто никогда и не существовал. В творчестве Ефремова все неугодное было попросту вычеркнуто, а сам он наряжен придворным оптимистом.
В большой мере он сам виноват в этом. Он никогда не отличался ясностью выводов, наоборот, он обставлял их объяснениями и дополнениями, зачастую искажавшими смысл сказанного. Тут равно сыграли и навыки эзопова языка, и утопический темперамент, заставлявший Ефремова браться за решение всех проблем, назойливыми мелочами снижать масштабы своих мыслей. В такой форме его концепции легко уязвимы для критики и составляют благодарный материал для всяческих идеологических подтасовок.
Официальную критику с Ефремовым ещё больше примирило его понимание искусства. Ефремов обладал определённым, но ограниченным даром: он был пейзажистом, художником природы. Ему часто удавались детали описания архитектуры, бытовые сцены, аксессуары в исторических произведениях. Но по мере того, как он отдалялся от конкретностей, шёл к обобщениям, к своим теориям или изображению идеального общества, все чаще появлялись в его прозе неточность языка, неестественность ситуаций, слащавые образы, патетические мелодекламации. О. Мандельштам, которого я так люблю цитировать, заметил как-то: «Для огромного большинства произведение искусства соблазнительно лишь поскольку в нём просвечивает мироощущение художника. Между тем, мироощущение для художника орудие и средство, как молоток в руках каменщика, и единственно реальное это само произведение». Ефремову такое понимание искусства чуждо. Он не верит в самоцельность творчества. Он считает, что художник обязан учить жизни, искусство должно формировать людей и улучшать общество. Поэтому искусство может быть только назидательным, только реалистическим (воспитывать на абстрактных примерах нельзя), говорить только о прекрасном (давать образцы для подражания). Эти убеждения характерны для традиции классической утопии, но они вполне совпадают и с требованиями соцреализма. Так получилось, что ортодоксальная форма заслонила у Ефремова содержание. Я глубоко убеждён, что именно в этом главный секрет его успеха у советских идеологов литературы: недаром в последнее время он поднимается на щит как создатель «оригинальной» эстетики.
Между тем, недостатки Ефремова и сам факт его рекуперации не должны мешать оценить его творчество по достоинству. Он был зачинателем в области НФ и являл в ней величину, с которой нельзя было не считаться. Другие писатели определяли себя отношением к ефремовским идеям. Его влияние ощутимо до сих пор. Значение его не ограничивается рамками жанра. Он написал исторические повести, в которых выражал протест против тоталитарного режима и предвосхищал главные темы оттепели. Он написал первую и последнюю в послевоенной советской литературе настоящую утопию; самую детальную и всестороннюю антиутопию; большой роман о мистическом общении с миром и о связи культур Запада и Востока. Этого достаточно, чтобы войти в историю литературы (а не только историю НФ), особенно же там, где подобных книг не было в течение десятилетий, а значение книги зачастую определяется не её литературными качествами, а её отношением к господствующим штампам. Ефремов уникальное явление в официальной литературе. Четверть века он без устали стремился к своей главной и единственной цели, к заполнению той пустоты – духовной и психической, – которую оставило в людях исчезновение религии, и попытка заместить её материалистической доктриной. Он построил свою мировоззренческую систему, основанную на нравственных и метафизических понятиях самосовершенствования, долга перед прошлым, борьбы добра и зла в человеке, в обществе и во вселенной. Свои мысли Ефремов изложил противоречиво, подчас наивно, подчас искажая очевидные факты и прикрываясь благонамеренной фразеологией. Тем не менее, его учение оказалось в целом неприемлемым для советских идеологов. И мне кажется, что Ефремов преподал советской литературе – и не только литературе урок большой важности. Будучи, видимо, искренним коммунистом, марксистом, атеистом, в своих поисках духовной опоры он пришёл к полной ревизии философии диалектического материализма и связал себя с традициями религиозной – русской христианской и индуистской – мысли. Своим примером он доказал, что все ухищрения оживить догматическое мировоззрение тщетны, тем материалом и теми орудиями, которые оно имеет в своём распоряжении, заполнить духовный вакуум невозможно.


